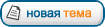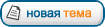http://politics.in.ua/index.php?go=News&in=view&id=6798
Все ли языки равны? Язык, культура и национальная идентичность
06/06/2006
Название моей статьи – «Язык, культура и национальная идентичность», но ее основная тема – положение языков, письменных или устных, которые по-прежнему остаются основным условием существования культур. Точнее, рассматриваемый мной сюжет служит «мультикультурализм» в той мере, в какой он основывается на языке. Вопрос о «нациях» встает в связи с тем, что в государствах, в которых мы живем, политические решения относительно условий публичного использования языков (например, в школах) имеют большое значение. И эти государства сегодня обычно отождествляются с «нациями», например, в словосочетании Организация Объединенных Наций. Такая путаница опасна. Поэтому для начала отметим несколько важных моментов.
Так как сегодня колоний почти не осталось, практически все мы живем в независимых и суверенных государствах. За редкими исключениями, в государствах, хотя и не в своих собственных, живут даже эмигранты и беженцы. Довольно легко придти к согласию относительно того, что представляет собой такое государство, во всяком случае в его современном виде, ставшем образцом для всех новых независимых политических образований с конца XVIII века. Государство – это территория, желательно цельная и отделенная границами от своих соседей, в пределах которой все граждане без исключения подпадают под исключительную власть территориального правительства и правил, определяющих его деятельность. Кроме сторонников авторитарной власти такого правительства, с этим никто не спорит; ибо даже верховенство закона Европейского Сообщества над национальным законом было установлено только по решению входящих в это Сообщество правительств. На территории государства гражданами являются все те, кто родились и проживают в нем, за исключением тех, кого государство специально относит к «иностранцам», причем оно также вправе предоставлять гражданство, но – в демократических странах – не лишать его. Принято считать, что иностранцы принадлежат к другому территориальному государству, однако в результате усиления ожесточенности начиная с Первой мировой войны произошел стремительный рост числа не признаваемых официальными властями жителей, для которых в наш трагический век были придуманы особые термины: «лица без гражданства», «апартеид», «нелегальные иммигранты» и так далее.
Какое-то время, в основном с конца XIX столетия, жители государства отождествлялись с «воображаемым сообществом», как бы исподволь сплачиваемым такими вещами, как язык, культура, этническая принадлежность и т.п. Идеалом такого государства было этнически, культурно и лингвистически однородное население. Теперь нам известно, что такое постоянное стремление к «этническому очищению» опасно и совершенно нереалистично, поскольку из почти 200 государств этой программе сегодня соответствует только около дюжины. Кроме того, подобная программа вызвала бы удивление у основателей первых национальных государств. Для них единство нации было политическим, а не социально-антропологическим. Оно состояло в решении суверенного народа жить под общим законом и общей конституцией, независимо от культуры, языка и этнического состава. «Нация», – говорил аббат Сийес со свойственной французам прозорливостью, – это «общество людей, живущих под общим законом и представленных одним законодательным учреждением» (Сийес, 2003, с. 160). Столь же новым было, конечно же, и предположение о том, что общее этническое происхождение, язык, культура, религии и прочее должны найти свое выражение в территориальных государствах, не говоря уже об отдельном территориальном государстве. В действительности, оно могло быть отречением от исторических ценностей, как в сионизме. Ортодоксальный раввин писал в 1900 году:
Появились незнакомые люди, которые говорят, что народу Израиля следует обратиться к светскому национализму, стать нацией наравне с другими, что иудаизм опирается на три вещи – национальное чувство, землю и язык – и что национальное чувство является наиболее ценной составляющей в этой смеси и наиболее полезной в деле сохранения иудаизма, а соблюдение Торы и заповедей – это частный вопрос, зависящий от наклонностей каждого человека. Боже, покарай этих злых людей и заставь их умолкнуть! (Kedourie, 1960, p. 76).
Дзиковский раввин, которого я здесь процитировал, несомненно, представлял традицию иудаизма.
Третье наблюдение подводит меня к основной теме этой статьи. Представление об одной единственной, исключительной и неизменной этнической, культурной или иной идентичности связано с опасным заблуждением. Ментальные идентичности человека – это не ботинки, которые мы можем носить за раз только одну пару. Мы многомерные личности. Чтобы господин Патель начал считать себя прежде всего индусом, британским гражданином, индуистом, человеком, говорящим на гуджаратском языке, выходцем из Кении, представителем определенной касты или родственной группы или носителем какой-то иной роли, он должен столкнуться с представителем иммиграционных властей, пакистанцем, сикхом или мусульманином, человеком, говорящим на бенгальском, и так далее. Нет никакой однозначной платоновской идеи Пателя. Все это присутствует в нем одновременно. Дэвид Селборн, лондонский идеолог, призывает «евреев в Англии» «перестать притворяться англичанами» и признать свою «действительную» еврейскую идентичность. У людей, которые всегда встают перед выбором «или/или», политика ведет или может вести к геноциду.
Кроме того, исторически даже в основе национальной однородности лежит такая множественная идентичность. Каждый немец в прошлом и даже сегодня, хотя и все реже, обладал одновременно двумя или тремя идентичностями: будучи представителем «племенного» – саксонского, швабского, франкского – немецкого княжества или государства и лингвистической культуры, сочетавшей единый для всех немцев стандарт письменного языка с множеством разговорных диалектов, причем некоторые из них также начали создавать письменную литературу. (Во время Реформации Библия была переведена не на один, а на несколько германских языков). В действительности, до Гитлера люди считались немцами в силу того, что они были баварцами, саксонцами или швабами, которые зачастую могли понять друг друга только тогда, когда говорили на стандартном письменном языке культуры.
Это естественным образом подводит меня к моей основной теме многоязычия и мультикультурализма. Оба эти понятия исторически новы и возникли в результате соединения трех условий: стремления к всеобщей грамотности, политической мобилизации простых людей и особой разновидности языкового национализма.
С исторической точки зрения, сосуществование народов с различными языками и культурами нормально или, скорее, не менее распространено, чем страны, населенные народами с одним однородным языком и культурой. Даже в Исландии с 300.000 жителей такая однородность поддерживается только благодаря жесткой политике исландизации, которая предполагает принуждение иммигрантов к принятию древнеисландского имени. Во время Великой французской революции лишь половина жителей Франции могла говорить по-французски, и только 12-13% говорили на этом языке «правильно»; крайним примером служит Италия, где на момент становления государства лишь два или три итальянца из ста действительно использовали у себя дома итальянский язык. Пока большинство населения было полностью погружено в среду разговорного языка, никакой необходимой связи между разговорным и письменным языком образованного меньшинства не существовало. В 1830-х годах работа органов управления Индии была переведена с классического письменного персидского языка, на котором никто в Индии не говорил, на столь же непонятный письменный английский язык. Если неграмотным нужно было общаться с теми, кто говорили на других языках, они либо обращались к посредникам, владевшим этими языками, либо достаточно хорошо знали старый язык, чтобы суметь договориться на нем, либо создавали пиджины и креольские языки, становившиеся неписьменными, но действенными средствами общения, которые теперь широко изучаются лингвистами.
Потребность в едином национальном языке появилась только тогда, когда простые граждане стали важной составляющей государства; потребность же в соответствии письменного и разговорного языков появилась только тогда, когда эти граждане, как предполагалось, начали читать и писать на нем. Но вспомним, что всеобщее начальное образование, за редкими исключениями, было введено не многим более века тому назад.
Изначально введение стандартного языка преследовало исключительно демократические, а не культурные цели. Как граждане могли понимать правительство своей страны, не говоря уже о том, чтобы участвовать в нем, если правление осуществлялось на непонятном языке – например, на латинском, как в венгерском парламенте до 1840 года? Не создавались ли тем самым условия для правления элитарного меньшинства? Этот довод был выдвинут аббатом Грегуаром в 1794 году (Хобсбаум, 1998, с. 164). Поэтому обучение на французском было очень важно для французских граждан, на каком бы языке они не говорили у себя дома. По сути, таким же остается положение в Соединенных Штатах, возникших в ту же эпоху демократической революции. Чтобы стать гражданином, иммигрант должен пройти проверку на знание английского языка, и читатели «Обучения Хаймана Каплана» знакомы с этим процессом языковой гомогенизации. Не нужно добавлять, что усилия господина Каплана по изучению английского языка не предполагали отказа от использования идиш в общении со своей женой у себя дома, которым он, конечно, и пользовался; точно так же они не приносили вреда и его детям, которые явно ходили в англоязычные публичные школы. То, что люди говорили или писали друг другу, – точно так же, как и их религия, – не касалось никого, кроме их самих. Вспомним, что даже в 1970-х годах – то есть до начала нынешней волны массовой иммиграции – 33 миллиона американцев, а также неизвестный процент от еще 9 миллионов, не ответивших на соответствующий вопрос, сказали, что английский язык не был для них родным. Более трех четвертей из них принадлежали ко второму или третьему поколению, родившихся в Америке (Thernstrom et al., 1980, p. 632).
На деле обучение на языках, отличных от стандартного национального языка, традиционно отдавалось на откуп частным инициативам, добровольным общинам меньшинств, как в случае чешской школы имени Коменского, которая была создана в Вене после 1918 при поддержке чешского правительства для многочисленного чешского меньшинства, проживавшего в городе, либо на усмотрение местных жителей, как часто бывало в Америке. Так, в 1840 году в Цинциннати было введено двуязычное обучение на английском и немецком языках. Большинство подобных механизмов, существовавших во второй половине столетия, со временем исчезло, причем требование официального федерального двуязычного обучения появилось вновь только в 1960-1970-х годах. Отметим, что требование это имело отношение скорее к политике, нежели к образованию, и связано было с тогдашним подъемом новой политики этничности и идентичности.
Положение, конечно, было иным там, где не было одного преобладающего языка, устного или даже письменного, или где языковое сообщество было недовольно более высоким статусом другого языка. В многонациональной Габсбургской империи «язык (публичных) учреждений и школ» стал политической проблемой с 1848 года, как и несколько позже в Бельгии и Финляндии. Обычно простое решение в этом случае – и я ссылаюсь здесь венгерский национальный закон 1868 года – состоит в обучении народа на своем собственном языке в начальной школе и в некоторых обстоятельствах в средней школе, а также разрешении использовать этот язык напрямую или через переводчиков в сношениях с государственными властями. (Но заметим, что язык в этом случае определялся политически. Сюда не входили ни идиш, ни креольский язык, распространенный в Истрии, где специалисты в 1850-х годах насчитали тридцать различных языков [Worsdorfer, 1994, p. 206]). Чтобы обладать языком, а не диалектом или «жаргоном», необходимо было получить признание в качестве нации или национальности. Такое простое решение могло работать в областях компактного проживания одной языковой группы, причем правление на местном или даже региональном уровне могло в значительной степени осуществляться при помощи так называемого «общеупотребительного языка» (Umgangsprache), но оно вызывало серьезные проблемы в областях со смешанным населением и в большинстве городов. На самом деле проблемы были связаны, конечно же, не с начальным, а со средним и высшим образованием. Именно здесь велись основные сражения. И основная сложность заключалась здесь не в массовой грамотности, а в языковом статусе неофициальных элит. Следует помнить, что до начала Второй мировой войны даже в таких, считавшихся весьма демократичными, странах, как Дания и Нидерланды, среднюю школу посещало не более 2% подростков в возрасте от 15 до 19 лет. В таких обстоятельствах, каждый фламандец или финн, поступивший в университет, конечно, вынужден был сдавать экзамены на французском или шведском языке. Короче говоря, опять-таки все дело было не в образовании, а в политике.
По сути, эта система одного официального языка на страну стала составляющей всеобщего стремления стать национальным государством, хотя с меньшинствами, настаивавшими на признании своих языков, заключались специальные договоренности. Многоязычные страны наподобие Швейцарии казались чем-то необычным; и de facto, принимая во внимание значительную кантональную автономию в этой стране, даже Швейцария едва ли была многоязычной, потому что все кантоны, кроме одного – Грисо, на самом деле были одноязычными. Колонии, получившие независимость после Второй мировой войны, изначально считали определенный язык необходимой основой национального образования и культуры – урду в Пакистане, хинди в Индии, сингальский на Шри-Ланке, арабский в Алжире. Как мы вскоре увидим, это было опасным заблуждением. Небольшие народы, определяющие себя с этнолингвистической точки зрения, по-прежнему стремятся к этому идеалу однородности: Латвия – только для тех, кто говорят на латышском, Молдавия – только для румын. Как и в 1940-х годах, когда эта область вновь перешла к России, почти половина ее населения состояла не из румын, а из украинцев, русских, болгар, турок, евреев и многих других групп (Seton-Watson, 1977, p. 182). Поясним: при нежелании сменить язык национальной языковой однородности в многоэтничных и многоязычных областях можно достичь только путем массового принуждения, изгнания или геноцида. Польша, имевшая в 1939 году треть непольского населения, сегодня почти полностью населена поляками, но только потому, что немцы были изгнаны из нее на запад, литовцы, белорусы и украинцы – отделены, чтобы войти в состав СССР на востоке, а евреи – истреблены. Добавим, что ни Польша, ни любая другая однородная страна не может оставаться однородной в сегодняшнем мире массовой трудовой миграции, массовых переселений, массовых путешествий и массовой урбанизации, если, опять-таки, она не прибегнет к безжалостному выдворению или созданию de jure или de facto общества апартеида.
Следовательно, привилегированное использование какого-либо языка в качестве единственного языка обучения и культуры в стране связано с политическими и идеологическими или, в лучшем случае, прагматическими соображениями. Во всяком случае, оно не имеет никакого отношения к образованию. Крайне трудно добиться всеобщего владения письменным языком, который никак не связан с разговорным, и подобная задача может оказаться невыполнимой, если только родители и община не стремятся обучить детей этому языку, как обстоит дело сегодня с большинством иммигрантов в англоязычных странах. Нужно ли для этого формальное двуязычное обучение – другой вопрос. В сущности, требование официального обучения на языке, отличном от общепринятого, когда оно не приносит очевидной выгоды ученикам, оказывается требованием признания, власти или статуса, а не более легкого обучения. Но оно также может быть требованием обеспечения выживания и развития «неконкурентоспособного» языка, который в противном случае обречен на исчезновение. Необходима ли сегодня для достижения этой цели официальная институционализация – вопрос интересный, но, по мнению лучшего специалиста в этой области, одно только двуязычное обучение не поможет (Fishman, 1980, p. 636).
Прибавим к этому еще один важный момент. Всякий язык, который переходит из исключительно устной речи в область чтения и письма, то есть a fortiori всякий язык, который становится средством школьного обучения или официального применения, меняет свой характер. Должна произойти стандартизация его грамматики, письма, словаря и, возможно, произношения. И его лексический диапазон должен быть расширен для покрытия новых потребностей. По крайней мере треть современного словаря иврита сформировалась в XX веке, тогда как библейский древнееврейский, как и валлийский «Мабиногиона», принадлежал древним скотоводам и земледельцам. Сложившиеся культурные языки современных государств – итальянский, испанский, французский, английский, немецкий, русский и пара других – прошли через этот этап социальной инженерии до XIX века. У большинства же письменных языков этот этап пришелся на последнее столетие и ознаменовался соответствующей «модернизацией», причем некоторые языки, например баскский, до сих пор переживают этот процесс. Само превращение языка в средство письма ведет к уничтожению разговорного языка. Предположим, что мы настаиваем, вслед за некоторыми защитниками афро-американцев, на том, чтобы наши дети обучались не на стандартном английском, на котором они не говорят, а на своем собственном черном английском, который представляет собой не «искаженную» разновидность стандартного английского, а его самостоятельный диалект. Вполне возможно. Но если превратить его в школьный язык, он перестанет быть языком, на котором говорят дети. Выдающийся французский историк, родным языком которого был фламандский, как-то сказал: «Фламандский, который теперь изучают в школах во Фландрии, – это не тот язык, которому матери и бабушки во Фландрии учили своих детей». Он в буквальном смысле слова перестал быть «родным языком». Женщина, которая присматривала за моей квартирой в Нью-Йорке и которая, как и все жители ее региона в Испании, владела испанским и галисийским, испытывала трудности в понимании очищенного и стандартизованного гальего, ставшего теперь официальным языком в Галисии. Он не является общеупотребительным языком региона, а представляет собой новый социальный конструкт.
Все вышеизложенное может быть или не быть истинным, но теперь оно в значительной степени устарело, так как произошли три события, о которых во время расцвета национализма никто не задумывался, а теперь не задумываются опасные новые националисты. Во-первых, мы больше не живем исключительно в культуре чтения и письма. Во-вторых, мы больше не живем в мире, где идея единого всеобщего национального языка вообще выполнима, то есть мы живем в неизбежно многоязычном мире. И, в-третьих, мы живем в эпоху, когда, по крайней мере, в настоящее время существует только один язык всеобщего глобального общения, а именно – определенная разновидность английского.
Первое событие связано главным образом с распространением кино и телевидения и, прежде всего, портативных радиостанций. Это означает, что теперь разговорные языки перестали быть местными, внутренними или ограниченными диалектами. И, следовательно, неграмотным стали доступны более широкий мир и более широкая культура. Это также может означать, но небольшим языкам и диалектам стало проще выживать, поскольку даже скромного населения достаточно, чтобы оправдать программу местного радио. Таким образом, языки меньшинств можно поддерживать без серьезных затрат. Однако под влиянием более крупного языка через средства массовой информации языковая ассимиляция может ускориться. В отличие от радио, оберегающего малые языки, телевидение к ним враждебно, но вполне возможно, что ситуация изменится, когда кабельное и спутниковое телевидение станет столь же доступным, как и радиовещание на коротких волнах. (В 1994 году в Нью-Йорке телепередачи велись на итальянском, французском, китайском, японском, испанском, польском, греческом и иногда даже албанском языках, правда, только в определенные часы, за исключением передач на испанском языке). Короче говоря, чтобы вывести язык из дома и с улицы в более широкий мир, его больше не нужно делать официальным. Конечно, это не означает, что неграмотные перестают испытывать серьезные и растущие неудобства по сравнению с образованными людьми, владеющими письменными или компьютерными языками.
Обычно в основе стандартных национальных языков в Европе лежало сочетание диалектов, использовавшихся основным народом государства, которое затем было преобразовано в литературный язык. В постколониальных странах это почти невозможно, а когда это произошло, например, на Шри-Ланке, последствия придания сингальскому исключительного официального статуса были губительными. В действительности, наиболее удобными «национальными языками» оказываются либо различные варианты lingua franca, либо пиджины, создаваемые исключительно для общения между народами, которые не говорят на языках друг друга, наподобие суахили, пилипино или индонезийского бахаса, либо бывшие имперские языки, наподобие английского в Индии и Пакистане. Их преимущество состоит в том, что они нейтральны по отношению к действительно разговорным языкам и не ставят ни одну из групп в особенно благоприятное или неблагоприятное положение. За исключением, конечно, элиты. За ведение своих дел на английском языке, которое служит страховкой от гражданских войн из-за языка наподобие той, что имела место на Шри-Ланке, Индии приходится платить тем, что людям, не имеющим за плечами нескольких лет обучения, которые позволяют человеку овладеть письменным иностранным языком, никогда не удастся подняться выше довольно скромного уровня на государственной службе или – сегодня – в бизнесе. На мой взгляд, такая цена стоит того, чтобы ее заплатили. Но представьте себе, какими бы были последствия для Европы, если бы хинди стал единственным языком общения в европейском парламенте, а London Times, Le Monde и Frankfurter Allgemeine Zeitung могли читать только те, кто знали хинди.
Все это приводит или приведет к резкому изменению соотношения между языками в многонациональных обществах. Целью всех языков, стремившихся в прошлом обрести статус национальных и стать основой национального образования и культуры, было превращение во всеобъемлющие языки на всех уровнях, равноценные языкам крупных культур. И в особенности, конечно, доминирующему языку, вопреки которому они пытались утвердиться. Таким образом, в Финляндии финский должен был заменить во всех отношениях шведский, а в Бельгии фламандский заменить французский. Поэтому настоящим триумфом языковой эмансипации должно было стать создание университета с преподаванием на родном языке: в истории финского, валлийского и фламандского движений дата основания такого университета является знаменательной датой в национальной истории. Множество менее крупных языков пытались добиться этого на протяжении прошлых столетий, начиная, наверное, с голландского языка в XVII веке и кончая – пока – каталонским. Некоторые, подобно баскскому, не оставляют попыток и по сей день.
На деле же теперь об этом говорить уже не приходится, хотя национализм малых наций пытается оказывать сопротивление этой тенденции. Языки вновь заняли свои места и стали использоваться в различных обстоятельствах с различными целями. Поэтому они не должны быть взаимозаменяемыми. Отчасти это связано с тем, что, в действительности, при международном общении используются лишь несколько языков. Несмотря на то, что органы управления Европейского Союза тратят треть своего бюджета на перевод со всех и на все одиннадцать языков, которые имеют статус официальных, подавляющее большинство текущей работы производится не более чем на трех языках. Опять-таки, хотя вполне возможно разработать словарь для написания статей по молекулярной биологии на эстонском – и мне известно, что такой словарь был создан, – никто, кроме других эстонских молекулярных биологов, читать написанные на этом языке статьи не станет. Они вынуждены будут писать их на международных языках, и даже французам и немцам приходится поступать подобным образом в такой области, как экономика. Введение научного словаря на родном языке обоснованно только тогда, когда число студентов, получающих высшее образование, очень велико, а набор производится из одноязычных семей, – и то только для вводных курсов; для более сложных задач студентам придется выучить международный язык, чтобы читать научную литературу, и, вероятно, им также придется выучить определенную разновидность английского, ставшего для сегодняшних интеллектуалов тем, чем была латынь в средневековье. Вполне реально вести сегодня обучение в университетах по некоторым предметам на английском языке, что отчасти и происходит в таких странах, как Нидерланды и Финляндия, которые некогда были пионерами в деле превращения разговорных языков во всеобъемлющие. Иного пути нет. Формально Венгрия в XIX веке преуспела в превращении венгерского в такой всеобъемлющий язык, применимый во всех областях – от поэзии до ядерной физики. На деле же, поскольку из шестимиллиардного населения Земли на нем говорят только десять миллионов, каждый образованный венгр должен владеть – и действительно владеет – несколькими языками.
В нашем распоряжении сегодня имеются не равноценные, а взаимодополняющие языки, независимо от наличия или отсутствия у них официального статуса. В Швейцарии никто не стремится превратить разговорный диалект немецкого в письменный язык, потому что никто не возражает против использования в этих целях верхненемецкого, английского и французского. (В Каталонии превращение каталонского во всеобъемлющий язык лишит бедных и необразованных жителей этого двуязычного региона изначального преимущества: владения одним из немногих крупных разговорных и письменных международных языков, а именно – испанским). В Парагвае все говорят на гуарани (хотя, строго говоря, 45% населения двуязычны), индейском языке, который с колониальных времен служит региональным lingua franca. Несмотря на то, что он долгое время пользуется равным признанием, насколько мне известно, его используют в основном для написания поэтических и драматургических произведений, а в остальных целях используется письменный испанский. Крайне маловероятно, что в Перу, где кечуа (по праву) получил официальное признание в 1970-х годах, кто-то всерьез будет требовать издания ежедневных газет или преподавания в университете на этом языке. Какой в этом смысл? Даже в Барселоне, где на каталонском говорят все местные жители, большинство ежедневных газет, включая каталонские выпуски общенациональных газет, выходит на испанском. Что же касается рядовых стран третьего мира, то, как я уже замечал, они просто не могут иметь один всеобъемлющий язык.
Такая обстановка способствует распространению разного рода lingua franca в различных странах и регионах и английского языка как всемирного средства общения. Такие пиджины и креольские языки могут быть языками культуры и литературы, но основная задача у них состоит не в этом. Латынь средневековых священников имела мало общего с латынью Вергилия и Цицерона. Они могут становиться или не становиться официальными языками в странах, которые нуждаются в языке для общения широкой публики, но когда они становятся такими языками, они должны избегать превращения в монопольные языки культуры. И чем меньше мы позволяем поэтам завладевать такими языками общения, тем лучше, так как поэзия затрудняет общение и ведет языковому национализму. Однако благодаря бюрократическому или техническому жаргону такие языки вполне могут стать доминирующими, ибо таково их основное предназначение. С этим также нужно бороться в интересах ясности. Поскольку американский английский уже превратился в такой правящий жаргон, опасность реальна.
В заключение сделаем несколько замечаний относительно того, что можно назвать чисто политическими языками, то есть языками, специально созданными в качестве символов националистических или регионалистских устремлений и сепаратистских или сецессионистских замыслов. Никаких оснований для их существования нет. Крайним примером служит попытка воссоздания корнуоллского языка, на котором в последний раз говорили в середине XVIII века, не имеющая никакой иной цели, кроме отделения Корнуолла от Англии. Такие сконструированные языки могут добиваться успехов, подобно ивриту в Израиле, то есть они могут превращаться в действительно разговорные и живые языки, или терпеть провал, подобно попытке националистических поэтов в межвоенную эпоху превратить диалект южной части Шотландии в литературный язык («лалланс»), но ни общение, ни культура не были предметом таких опытов. Таковы крайние проявления, но все языки содержат в себе элементы подобного политического самоутверждения, поскольку в эпоху национального или регионального сецессионизма естественно существование тенденции к дополнению политической независимости языковым сепаратизмом. Сегодня мы можем наблюдать такое явление в Хорватии. Здесь имеется дополнительное преимущество, связанное с предоставлением престижных рабочих мест множеству националистических или регионалистских активистов, как в Уэльсе. Повторим: как было установлено специалистами, занимающимися изучением языкового пуризма, в основе таких языковых манипуляций лежит политика, а не культура. Чешский языковой пуризм был направлен главным образом на устранение немецких элементов, но массовое заимствование из французского или латыни никаких возражений не вызывало (Jernudd and Shapiro, 1989, p. 218). Это вполне естественно. Русины определяют свои «нацию» и «язык» не вообще, а именно через противопоставление украинцам (Magocsi, 1992). Каталонский национализм направлен исключительно против Испании, точно так же, как валлийский языковой национализм направлен исключительно против английского языка.
Однако сегодня появился новый элемент, способствующий политическому созданию языков, а именно – систематическая регионализация государств, ассимилировавших регионы, которые не имели особых языковых, этнических или иных черт, на потенциально сепаратистские регионы. В качестве примера можно привести отношения Мурсии и Каталонии. Если Испания служит ориентиром, то создание ограниченных «официальных» языков, притязающих, в конечном итоге, как в Каталонии, на монопольное положение, будет неизбежным. То, что происходит сегодня в Валенсии, завтра может произойти в Пикардии.
Так появляется призрак повсеместной балканизации. Реальность проблемы становится очевидной, если принять во внимание проводимую Европейским Союзом политику поддержки регионов в существующих национальных государствах, которая de facto представляет собой политику поощрения сепаратизма, что быстро поняли шотландские и каталонские националисты. Балканизация не решит проблем лингвистической и культурной идентичности. Все останется по-прежнему. Брюссель может тратить треть своего бюджета на перевод, и, если Европа может себе это позволить, то почему бы и нет? Но дела в сообществе в основном или вовсе не будут вестись на португальском или греческом или даже датском и голландском. Языковая балканизация приведет только к увеличению числа конфликтов. Если хорваты могут создать себе отдельный язык из единого сербо-хорватского, созданного их предками для – не очень успешного – объединения южных славян, то и любой другой сможет это сделать.
Пока язык не будет так же четко отделен от государства, как религия в Соединенных Штатах по американской конституции, он будет оставаться постоянным и, вообще говоря, искусственным источником междоусобиц.
Вспомним Вавилонскую башню. Она навсегда осталась недостроенной, потому что бог осудил человечество на постоянное языковое противоборство.
Использованная литература:
Сийес, Эмманюэль Жозеф, «Что такое третье сословие?», в: Аббат Сийес: от Бурбонов Бонапарту (Санкт-Петербург: Алетейя, 2003), с. 149-217.
Хобсбаум, Эрик. Нации и национализм после 1790 года (Санкт-Петербург: Алетейя, 1998).
Fishman, Joshua, “Language Maintenance,” in: S. Thernstrom et al., eds., Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980).
Jernudd, Bjorn and Shapiro, Michael, eds., The Politics of Language Purism (Berlin: Mouton de Gruyter, 1989).
Kedourie, Elie, Nationalism (London: Hutchinson, 1960).
Magocsi, Paul Robert, “The Birth of a New Nation or the Return of an Old Problem? The Rusyns of East Central Europe,” Canadian Slavonic Papers/Revue canadienne des slavistes, 34:3 (September 1992): 199-223.
Seton-Watson, Hugh, Nations and States (London: Methuen, 1977).
Thernstrom, S. et al., eds., Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980).
Wordsdorfer, Rolf, “‘Ethnizitaet’ und Entnationalisierung,” Oester reichische Zeitschrift fur Geschichtswissenschaften 5 (Jg 2/1994): 201-231.
Эрик Хобсбаум
Источник: Журнал Логос, № 15 2006